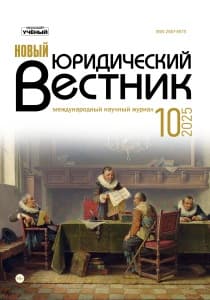Актуальность исследования проблемы соотношения законности и целесообразности в процессе реализации права обусловлена перманентным характером данного противоречия, которое обостряется в периоды масштабных социально-экономических и политических трансформаций. В современных условиях, характеризующихся динамизмом общественных отношений и появлением новых, непредвиденных законодателем вызовов, правоприменители все чаще сталкиваются с дилеммой: строго следовать букве закона или отступить от неё, руководствуясь соображениями справедливости, рациональности и эффективности в конкретной ситуации. Это противоречие пронизывает все стадии правового регулирования и затрагивает основы функционирования правового государства, поскольку необоснованный крен в сторону целесообразности ведёт к произволу и правовому нигилизму, в то время как абсолютный диктат формальной законности может порождать несправедливые и социально деструктивные решения [1, с. 45].
В отечественной правовой науке фундаментальные основы соотношения этих категорий были заложены в трудах С. С. Алексеева, рассматривавшего законность в качестве универсальной общеправовой категории [2, с. 112]. Несмотря на значительный массив научных трудов, сохраняется потребность в комплексном анализе проявлений диалектики законности и целесообразности на всех стадиях реализации права — от соблюдения запретов до правоприменительной деятельности, с учётом современных вызовов, связанных с цифровизацией и глобализацией.
Целью настоящей статьи является теоретико-правовой анализ соотношения категорий законности и целесообразности в процессе реализации права, выявление характера их взаимосвязи и противоречий, а также разработка на этой основе предложений по оптимизации данного соотношения в правоприменительной практике.
Теоретико-правовая природа законности и целесообразности: сущность и диалектическое единство
Основой анализа соотношения законности и целесообразности является чёткое определение их правовой природы. Законность представляет собой комплексный принцип организации и функционирования правового государства, требующий строгого, неуклонного соблюдения и исполнения законов и подзаконных актов всеми субъектами правовых отношений — государственными органами, должностными лицами, общественными организациями и гражданами [3, с. 215]. Данный принцип характеризуется рядом системных признаков: всеобщность, верховенство закона в системе правовых актов, единство правового пространства и недопустимость противопоставления законности и целесообразности в её формальном понимании. Именно законность обеспечивает такие ключевые для права качества, как стабильность, предсказуемость и единообразие правоприменения, создавая тем самым надёжный каркас правопорядка.
В научной доктрине традиционно выделяют два основных вида целесообразности. Внутренняя (имманентная) целесообразность изначально заложена в тексте правовой нормы через использование законодателем оценочных понятий («существенный вред», «разумный срок», «добросовестность»), диспозитивных норм, альтернативных санкций и институтов, таких как крайняя необходимость [4, с. 76].
Диалектическая взаимосвязь законности и целесообразности проявляется в их органическом единстве и постоянном потенциальном противоречии. Единство обусловлено тем, что сам закон в своём идеальном выражении является воплощением социальной целесообразности, а его конечной целью служит установление справедливого и эффективного правопорядка.
Проявление соотношения законности и целесообразности на различных стадиях реализации права
Анализ диалектики законности и целесообразности получает конкретное воплощение при рассмотрении различных форм реализации права, где их соотношение варьируется в зависимости от характера правовых норм и степени свободы субъектов правоотношений.
На стадии соблюдения и исполнения права, регулируемых преимущественно императивными нормами, доминирует принцип законности. Субъекты правоотношений обязаны неукоснительно следовать установленным запретам и предписаниям, где отступление под предлогом целесообразности недопустимо. Например, соблюдение требований налогового законодательства или правил дорожного движения исключает возможность их нарушения по соображениям личной или ситуативной целесообразности [5, с. 373].
Ключевым моментом является стадия принятия правоприменительного решения, где усмотрение правоприменителя становится инструментом согласования законности и целесообразности. В административном праве это проявляется при выборе вида и меры административного наказания в установленных законом пределах. В уголовном праве при назначении наказания с учётом смягчающих и отягчающих обстоятельств, когда суд избирает конкретную меру ответственности, адекватную личности подсудимого и совершенному деянию [6, с. 48].
Проблемы и риски доминирования целесообразности над законностью и пути их минимизации
Несмотря на функциональную значимость целесообразности в механизме правового регулирования, её доминирование над законностью или выход за установленные законом рамки порождают системные риски для правопорядка. Наиболее существенной проблемой является правовой произвол, когда субъективное усмотрение должностного лица подменяет собой объективное содержание правовой нормы. Создаются условия для формирования «телефонного права» и коррупционных практик, при которых решения принимаются не на основе закона, а под влиянием административной целесообразности или личной заинтересованности. Это ведёт к правовому нигилизму, поскольку подрывает веру граждан в справедливость и незыблемость закона, создавая представление о его условности и зависимости от произвольных решений власть имущих.
Ключевую роль играют процессуальные гарантии, обеспечивающие прозрачность и обоснованность правоприменительных решений. Принципы гласности, состязательности и мотивированности судебных и административных актов позволяют осуществить эффективный внешний контроль за тем, чтобы усмотрение не перерастало в произвол [7, с. 77].
Заключение
Проведённое исследование позволяет констатировать, что проблема соотношения законности и целесообразности в процессе реализации права сохраняет свою теоретическую значимость и практическую актуальность в современных условиях. Анализ показал, что эти категории находятся в диалектическом единстве, где законность создаёт необходимые правовые рамки, обеспечивая стабильность и предсказуемость правового регулирования, а целесообразность выступает инструментом гибкой адаптации общих правовых предписаний к конкретным жизненным ситуациям.
На различных стадиях реализации права соотношение законности и целесообразности проявляется неодинаково. Если при соблюдении и исполнении права доминирует принцип законности, то в правоприменительной деятельности и при использовании субъективных прав целесообразность приобретает существенное значение, находя своё выражение в институтах толкования права, аналогии, судейского и административного усмотрения.
Литература:
- Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. — М.: Юрид. лит., 1974. — 184 с.
- Алексеев С. С. Теория права. — М.: Изд-во БЕК, 1995. — 320 с.
- Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2016. — 528 с.
- Комарова М. А. Судейское правотворчество в правовой системе России // Евразийский Союз Ученых. — 2018. — № 3–3 (48). — С. 75–77.
- Нинциева Т. М., Шахбанов Р. М., Крат А. С. Правовое усмотрение в контексте применения права: аспекты и детерминанты формирования механизма // Право и государство: теория и практика. — 2023. — № 7 (223). — С. 372–374.
- Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации: науч.-практ. пособие / В. М. Лебедев, В. А. Давыдов, И. Н. Иванова; под общ. ред. В. М. Лебедева. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2022. — 1413 с.
- Боннер А. Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. — М.: РосПраво, 1992. — 320 с.