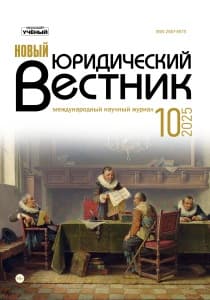В ходе исполнения договора у сторон может возникнуть неодинаковое понимание его текста. Даже безупречный, на первый взгляд, текст в конкретных обстоятельствах отношений сторон может оказаться неясен (недостаточная определённость условия, противоречие условий друг другу, неполнота).
Неопределённость значения [1, с. 495–500] («uncertainty about the meaning [2, с. 6]») не позволяет однозначно решить вопрос о смысле условия, относительно которого спорят стороны. Преодолеть такую неопределённость призваны нормы статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации [3] (далее — ГК РФ) о толковании договора судом.
Интересы сторон не обязательно совпадают, и спор о толковании договора означает, что каждая из сторон будет отстаивать перед судом свою версию понимания спорного условия как правильный вариант толкования.
Решение суда не может быть вынесено в пользу всех сторон спора, и итог толкования договора судом не будет одинаково выгоден всем сторонам. Поэтому разрешение неопределённости договора судом несёт в себе риск негативных последствий для каждого из контрагентов.
Как указывается в доктрине, возможность толкования сама по себе является риском сторон [4, с. 8]. Результат толкования (за редким исключением) для одной стороны положителен, для другой — отрицателен. На распределение рисков (risk allocation) в процессе толкования указывается и в иностранной доктрине [5, с. 78]. А возложение риска влечёт за собой возмещение причинённых убытков, ущерба [6, с. 40]. В случае толкования это выражается в победе стороны спора, чью версию понимания договора суд посчитает истинной.
Общая характеристика процесса толкования
Процесс толкования договора предполагает последовательное прохождение судом нескольких стадий.
Причём стадийность характерна и законам иностранных государств, что говорит о неслучайности такого построения норм о толковании и в ГК РФ.
Например, согласно Гражданскому Кодексу Франции [7] (далее — ГК Франции) на первой стадии суд ограничивается буквальным пониманием текста: не подлежат толкованию ясные и точные (claires et précises) условия, поскольку это может привести к искажению (dénaturation) договора. Поиск воли сторон недопустим, если неопределённости договора нет.
Если условия договора не ясны, на второй стадии толкования поиску подлежит общее намерение сторон («commume intention»), получающее приоритет над буквальным смыслом слов: часть 1 статьи 1188 ГК Франции.
На третьей стадии, при невозможности найти общее намерение, договор толкуется в соответствии со значением, которое придало бы ему разумное лицо в той же ситуации, что и стороны: часть 2 статьи 1188 ГК Франции.
На четвёртой стадии, при неразрешимом сомнении («dans le doute») договор толкуется в пользу должника против кредитора или против автора договора присоединения: статья 1190.
Архитектура толкования в ГК РФ концептуально похожа на толкование по ГК Франции, что может указывать на целесообразность стадийности.
Первая стадия — буквальное толкование, в котором можно выделить два подэтапа. Сначала — буквальное понимание слов и выражений. Затем, при их неясности — системное толкование всего текста договора.
Ко второй стадии толкования — поиску общей воли сторон с учётом цели договора — суд переходит при обнаружении неопределённости текста, что напоминает правило ГК Франции о недопустимости искажения (dénaturation) ясных условий договора.
На второй стадии судом принимается во внимание контекст отношений сторон, в том числе — их волеизъявления (переписка и т. п.).
На третьей стадии — применение иных приёмов, таких как contra proferentem, в силу указаний пункта 11 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и её пределах» [8] и пунктов 45, 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 49 от 25.12.2018 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» [9] (далее — Постановление № 49).
Установив приоритет буквального толкования, законодатель возложил интерпретационные риски на ту сторону, которая понимает договор вопреки его буквальному тексту, имеет нетипичную версию понимания.
От приоритета буквального толкования выигрывает сторона, которая полагалась на ясный и недвусмысленный текст договора. Буквальное значение слов определяется с учётом их общепринятого употребления любым разумным и добросовестным участником оборота: абзац 2 пункта 43 Постановления № 49. Следовательно, законодатель «поощрил» разумность стороны, полагающейся в договоре на ясные общепринятые выражения.
Однако, как справедливо указывается в доктрине, спорное условие может быть ясным для несведущего лица, но иметь специфическое значение для определённой отрасли [2, с. 63–64]. К тому же ясное для профессионала условие не всегда ясно непрофессионалу, например, потребителю.
Немецкая доктрина предложила термин «горизонт понимания» (Empfängerhorizont), означающий, что суд может принять именно точку зрения одной из сторон. Важно, что горизонт понимания определяется без учёта ошибок стороны и её субъективной неразумности, а на основе объективных («objective perspective of the recipient of the declaration [10, с. 128]») знаний и опыта.
Поэтому, как представляется, ясность условия справедливо оценивать именно с точки зрения более слабой стороны. Например, если условие для потребителя объективно не является достаточно определённым, суд должен перейти к толкованию по части 2 статьи 431 ГК РФ.
Установить, что действительно имели в виду стороны при заключении договора, позволяет контекст отношений сторон, контекстуальное толкование. Контекстуальное толкование (contextualism) — в противоположность буквальному (literalism [11, с. 297]) — предполагает анализ текста договора с учётом иных, помимо договора, обстоятельств. Прежде всего это волеизъявления сторон: переговоры, переписка, практика взаимных отношений, обычаи, поведение. Под поведением можно понимать конклюдентные действия сторон [12] (например, принятие исполнения).
Является ли круг обстоятельств, которые суд вправе принять во внимание, ограниченным? Думается, что нет.
Косвенно это подтверждает пункт 46 Постановления № 49, в силу которого суды вправе применить приёмы толкования, вытекающие из обычаев и деловой практики, а также собственные подходы к толкованию. Если суд не ограничен в выборе приёмов толкования, то не ограничен он и в выборе допустимых и относимых доказательств воли сторон. А процесс толкования подчинён процессуальным правилам доказывания [13, с. 71].
Суд учитывает не только волеизъявления сторон, но и иные фактические обстоятельства, например авторство спорного условия.
Цель контекстуального толкования в силу части 2 статьи 431 ГК РФ — выяснение «действительной общей воли сторон с учётом цели договора». Контекст отношений сторон, их встречные волеизъявления ценны для суда тем, что проясняют волю сторон.
Однако упоминание общей воли сторон в части 2 статьи 431 ГК РФ вызывает вопрос: как поступить суду, если стороны понимают цель договора по-разному и если у сторон общей воли не сложилось. Нельзя говорить о наличии общей воли и в ситуации, если стороной спора выступает третье лицо, которое не подписывало спорный договор, но приобрело по нему права и обязанности [14].
Поэтому представляется, что суд вправе определить смысл договора таким образом, что он заведомо будет соответствовать воле только одной из сторон и не соответствовать воле проигравшей стороны.
В некоторых судебных актах можно найти указания на волю одной из сторон, например, «воля заказчика при заключении договора имела направленность» на демонтаж объекта полностью до «верха фундаментов» [15].
То есть, озвученное выше утверждение о том, что результат толкования — поиск не общей воли, а воли только одной из сторон, фактически является констатацией уже сложившегося в практике положения вещей.
Толкование договора при отсутствии общей воли сторон
Неудивительно, что как в отечественной, так и зарубежной доктрине нет чёткой определённости, имеют ли стороны договора каждый индивидуальные воли или же единую общую волю.
Есть исследователи, согласные с законодателем, отмечающие, что общий для сторон результат договорных отношений требует «согласованного единства воль [16]». А. В. Костикова особо указывает, что в толковании «установлению подлежит … общая воля сторон, а не воля каждой из них [17]».
Такое понимание не противоречит классике цивилистической науки.
Так, Ф. К. Савиньи рассматривал договор как выражение общей воли [18, с. 374].
Н. Л. Дювернуа характеризовал договор как единство двух воль и единство двух волеизъявлений [19, с. 45]. Ю. С. Гамбаров считал, что стороны договора имеют новую, единую волю, которая в договоре получает «объективное бытие» (совпадение интересов и единение воли является необходимой предпосылкой договора) [20, с. 680]. В советской доктрине указывалось на общую волю [21, с. 416].
Того же мнения придерживается и Н. В. Степанюк, сформулировавшая позицию, что договор является соглашением, поэтому цель толкования — общая воля [22], а «точнее говоря — общее намерение [23, с. 55]».
Е. А. Суханов определил договор как согласование воль и указал на согласованную волю [24, с. 191], что можно понимать как единую волю.
Впрочем, во французской, например, доктрине указывается иное: в основе договора лежат различные воли сторон. Классик французской цивилистики Р-Ж. Потье писал о волях сторон во множественном числе [25, с. 81].
И современная французская доктрина не считает волю сторон единой. Договор — встреча однонаправленных воль (rencontre de deux volontés unilatérales), направленных на достижение единого результата [26, с. 7].
ГК Франции договор понимает как согласование воль, «accord de volontés» (статья 1101), и при толковании вопрос об общей воле не ставится. Так, в статье 1188 говорится о нахождении общего намерения («commume intention»), что можно трактовать и как общее волеизъявление. В свою очередь, признается, что намерение и воля не являются одним и тем же. Об этой говорит, в частности, Ренар, используя следующие термины: воля реальная и воля провозглашённая («réelle et déclarée [27, с. 160]»).
То есть, во французской доктрине и в законе последовательно понимание того, что воля у каждого из контрагентов может быть разная. А «встреча» этих воль в договоре приводит к образованию общего намерения («commume intention»), что следует рассматривать как волеизъявление.
И в некоторых определениях Верховного Суда РФ указывается, что при толковании устанавливается «согласованное волеизъявление сторон». И что «правовые последствия сделки устанавливаются на основании намерений сторон достигнуть соответствующий практический, в том числе экономический результат [28]» («намерений» — во множественном числе).
К сожалению, такая позиция не является доминирующей в практике, но уже сам факт её существования указывает на то, что договор является лишь общим волеизъявлением. Искать общую волю в процессе толкования не всегда имеет смысл, потому что таковой у сторон может и не быть.
В отечественной доктрине также есть высказывания в пользу того, что намерения контрагентов не образуют единой воли.
В. И. Синайский называл договор волеизъявлением сторон и отмечал, что, если бы теория единства воли была верна, у сторон не было бы возможности расторгнуть договор [29, с. 22].
А. К. Байрамкулов полагает, что действительная воля сторон — воля стороны-заявителя, ограниченная теми значениями, которые были доступны для понимания стороной-адресатом [13, с. 65–66]. Под заявителем и адресатом А. К. Байрамкуловым понимаются именно стороны договора (например, как оферент и акцептант).
Приведённой дефиниции важно уделить внимание. Хоть в ней и говорится об общей воле сторон, эту общую волю следует воспринимать с определённой долей условности.
По такой логике потребитель объективно может не воспринять смысл адресованной ему оферты на том профессиональном уровне, на каком её понимает субъект предпринимательской деятельности (который с выгодой для себя использует неискушённость контрагентов). В такой ситуации общей волей может считаться понимание договора, какое возникло у потребителя как менее опытного контрагента.
Итак, стороны придерживаются разных версий понимания договора. Причём разница бывает настолько фундаментальна (правовая квалификация договора, например), что общей воли не прослеживается.
Так, общество «Венский бал» полагало, что заключило с обществом «Жюль Верн» договор купли-продажи билетов, которые последний обязался перепродать посетителям бала. Бал не состоялся, и общество «Венский бал» потребовало во встречном иске возместить стоимость билетов [30].
Общество же «Жюль Верн» верно квалифицировало договор как агентский, по которому оно обязалось, будучи агентом, распродать билеты по заданию общества «Венский бал».
Президиум ВАС квалифицировал договор как агентский, не усмотрев элементов купли-продажи. Обществу «Венский бал» во встречном иске в части взыскания задолженности за билеты отказано: билеты не признаны товаром.
Дело «Венского бала» чрезвычайно важно для понимания специфики толкования договора. Ведь сам факт того, что стороны заявили о разной квалификации ими договора, свидетельствует о несовпадении их намерений и отсутствии общей воли.
Поэтому и автор настоящей статьи придерживается позиции, что «общая воля сторон» — фикция , которая не должна быть самоцелью для справедливого процесса толкования договора. Воля у каждого контрагента разная , и каждая сторона пытается в суде доказать, что именно её воля подлежит защите как действительная и общая для обеих сторон.
Характерно, что в принципах УНИДРУА общее намерение сторон выступает не как цель толкования, а как одно из средств для установления верного смысла условия [31, с. 148]: часть 2 статьи 4.8.
Если суд придёт к выводу, что воля одной стороны противоречила при заключении договора воле другой стороны, часть 2 статьи 431 ГК РФ молчаливо допускает установление воли каждого из контрагентов. При их несовпадении — допускает выбор воли одной стороны в качестве подлежащей защите.
В таком положении указание на общую волю в части 2 статьи 431 ГК РФ выглядит декларативным. Более правильным является доктринальное осмысление общей воли как некоего «желаемого», которое в действительности вовсе и не нужно для успешного толкования.
Толкование не является сугубо логическим процессом поиска истины: если общей воли не сложилось, то и найти её невозможно. Поэтому нуждается в уточнении точка зрения Н. В. Степанюк о том, что сила толкования должна заключаться не столько в авторитетности суда, «сколько в логической убедительности [22, с. 17]» процесса толкования.
Если текст договора настолько неясен, что логическими средствами его истолковать нельзя (суды в таких случаях могут указать: ни один из вариантов толкования нельзя признать безупречным [32]), то суд вынужден искать критерии распределения между сторонами интерпретационных рисков.
Думается, что распределение рисков должно быть справедливым, что риски должны возлагаться на ту сторону, поведение которой в фактических обстоятельствах отношений с контрагентом может быть признано более предосудительным. Столкнувшись с неразрешимой неясностью договора, суд вправе выбрать сторону, чья правота обусловлена её более добросовестным поведением или презюмируется из иных обстоятельств отношений сторон.
Типична ситуация, когда автор проекта договора закладывает в договор недостаточно полное условие, чтобы в дальнейшем уклоняться от исполнения обязательств. Такой оппортунизм приводит к возложению на эту сторону интерпретационных рисков (и проигрышу в судебном процессе).
Равным образом, недобросовестным является и поведение стороны, которая в ходе исполнения договора в своём поведении придерживается одного значения спорных условий, а в судебном процессе — иного.
Учёт волеизъявлений по части 2 статьи 431 ГК РФ позволяет понять, какая сторона более виновна в неразрешимой неопределённости договора. Или какая сторона своим непоследовательным поведением пыталась извлечь для себя необоснованную выгоду из неопределённого условия.
В волеизъявлениях воля каждого из контрагентов выражается вовне, на основании чего суд может сделать вывод о том, какова была воля этой стороны.
Например, сделанное сторонами заявление о зачёте взаимных требований может прояснить понимание договора каждой из сторон [14]. Впоследствии акт зачёта может по правилам об эстоппеле опровергнуть версию значения договора, отстаиваемую непоследовательным контрагентом.
Отметим, что намерения (потребности, ожидания) стороны, по смыслу части 2 статьи 431 ГК РФ, интересуют суд лишь постольку, поскольку они были выражены вовне в переписке, переговорах, конклюдентных действиях. Речь идёт не об установлении глубинной воли стороны, судом исследуются именно волеизъявления стороны, адресованные контрагенту.
Поэтому сторонам выгодно вести переговоры или переписку для прояснения спорных вопросов и для раскрытия своих намерений. А. К. Байрамкулов справедливо указывает [13, с. 63], что суд не может защищать волю только автора волеизъявления в ущерб интересам адресата волеизъявления.
Так, суды взыскали с ответчика штраф за односторонний отказ от заявок, направленный менее, чем за сутки до предполагаемой погрузки [33]. По смыслу заявки отказ допустим, если он сделан более чем за сутки до поставки. Истец утверждал, что односторонний отказ от заявок сделан ответчиком в нерабочее время в 17:59 вечера и получен истцом на следующий день. Ответчик же считал, что отказ сделан им более, чем за сутки до погрузки, и оснований для взыскания штрафа нет. Судами истолкованы заявки истца на перевозку, согласованные сторонами в «WhatsApp».
Суды пришли к выводу о том, что ответчик знал, что рабочий день истца заканчивается в 17:00. Было учтено, что информация о рабочем времени истца размещена на его официальном сайте в сети интернет и ответчику известна.
Вывод: доведя до ответчика информацию о рабочем времени в своей организации, истец заложил фундамент для разрешения спора в его пользу.
Если сторона настаивает на версии понимания договора, её доводы могут быть отклонены, если своим предшествующим поведением она создавала видимость другого понимания договора.
Во-первых, при проявленном оппортунизме существование общей воли сторон вызывает дополнительные сомнения. И более справедливым выглядит выбор судом воли более последовательной стороны.
Во-вторых, противоречивое поведение стороны вводит её контрагента в заблуждение и, как показывает практика, поэтому оно «наказуемо».
Принципиальная возможность «наказывать» сторону за её противоречивое поведение и толковать договор в пользу её контрагента заложена в абзаце 3 пункта 43 Постановления № 49: толкование договора не должно позволить какой-либо стороне извлекать преимущество из её незаконного или недобросовестного поведения.
Противоречивым поведением первая, непоследовательная, сторона дезавуирует то понимание договора, на котором сама же настаивает. Вторая сторона вынуждена доверять одной из версий договора первой стороны (так называемый эстоппель на доверии [34]). И если перед судом первая сторона начинает отстаивать новую версию понимания договора, она может быть лишена права отрицать ту версию, на истинность которой полагалась вторая сторона.
В судебной практике встречаются ситуации, когда суды, применяя принцип эстоппель, отдают предпочтение версии понимания договора более последовательной и добросовестной стороны и отвергают вариант толкования, предлагаемый стороной, ведущей себя непоследовательно. Эта сторона несёт интерпретационные риски из-за своего непоследовательного поведения.
Так, истцом (субисполнитель) и ответчиком (исполнитель) заключен договор с обязанностью субисполнителя по техническому обслуживанию газового оборудования. Истец полагал, что услуги оказаны, но ответчиком не оплачены. Суд апелляционной инстанции путём толкования договора пришёл к выводу о том, что акт оказанных услуг не направлен по согласованным в договоре каналам связи, то есть результат услуг не сдан [35]. В иске отказано.
Суд кассационной инстанции [36] отменил постановление апелляции. Ссылаясь на статью 431 ГК РФ, он сформулировал позицию: толкование договора не должно происходить в отрыве от фактических обстоятельств его исполнения. Длительная практика взаимодействия сторон, систематическая оплата ответчиком услуг по документам, представляемым истцом, свидетельствует о согласии с установленным порядком документооборота.
Судом учтены конклюдентные действия по согласованию ответчиком того порядка документооборота, правильность которого ответчик, со ссылкой на условия договора, впоследствии стал отрицать. Ответчик принятием исполнения по представляемым истцом документам дезавуировал собственное понимание условий договора о порядке сдачи работ.
Сослался суд и на эстоппель как механизм «обеспечения последовательного поведения» сторон.
Учёт противоречивого поведения является лишь частным случаем разрешения спора в пользу более добросовестной стороны. Так, общепринято указание на необходимость толкования договора в соответствии с принципом добросовестности, что предполагает оценку поведения сторон («apprécier le comportement des parties [37, с. 151]»), что предполагает не только эстоппель.
Так, судами апелляционной и кассационной инстанций отказано в иске об оплате задолженности за выполненные работы по договору о демонтаже сооружения с извлечением металлического лома [15].
В ходе исполнения договора обнаружен металлический лом в большем объёме, чем предполагалось сторонами при заключении договора. В результате заказчиком и подрядчиком заключены дополнительные соглашения к договору, во исполнение которых подрядчик демонтировал дополнительно обнаруженный лом, а заказчик продал подрядчику весь лом (всего на сумму 6,3 миллиона рублей), зачтя его цену в счёт оплаты работ по демонтажу. Истец (подрядчик) потребовал оплаты работ по последней денежной оценке лома (6,3 миллиона рублей), полагая, что последним дополнительным соглашением согласованы дополнительные работы по демонтажу лома.
Ответчик (заказчик) полагал, что при заключении договора стороны не могли определить точное количество подлежащего демонтажу и передаче лома и потому в договоре согласовали только ориентировочную оценку стоимости лома, а сам лом передавался в качестве оплаты работ.
Суды поддержали заказчика, указав следующее: «по договору подрядчик принял на себя обязательства осуществить демонтаж объекта и извлечение … лома в целом , то есть выполнить весь комплекс работ для достижения необходимого заказчику результата (отсутствие на его площадке списанных конструкций)». И именно в этом деле суды указали не на общую волю, а на волю одного лишь заказчика, которая имела направленность на демонтаж объекта полностью до верха фундаментов.
То есть, цель договора — снос всего объекта и демонтаж всего лома, какой окажется. Демонтаж выявившегося объёма лома не является дополнительной работой, так как изначально он в договоре учтён.
К тому же договор является смешанным. Оплата работ (подряд) осуществляется путём передачи заказчиком лома подрядчику (купля-продажа) с зачётом цены переданного лома в счёт оплаты работ. Как следует из подписанного сторонами зачёта взаимных обязательств, заказчик передал лом в натуре, чем прекращены его обязательства по оплате работ.
Суды провели контекстуальное толкование по части 2 статьи 431 ГК РФ, так как приняли во внимание обстоятельства взаимоотношений сторон: заключая договор, стороны определённо осознавали объём работ, им заранее были известны габариты подлежащего демонтажу объекта.
При толковании договора суды применили указание Постановления № 49 о том, что договор подлежит толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне извлекать преимущество из её недобросовестного поведения. Судами указано, что именно подрядчик является стороной профессиональной, что он должен был предложить такую цену за работы, которая была бы соразмерна производимым трудозатратам.
Развёрнутая мотивировка кассационной инстанции радует: суд сначала провёл системное толкование всего договора и дополнительных соглашений к нему. Учёл волю каждого из контрагентов, которые не совпали между собой. Принял во внимание коммерческий опыт сторон и обстоятельства заключения договора и возложил риски неопределённости договора на подрядчика как сторону, более осведомлённую об объёмах работ, их технологии и затратах. Учтён и зачёт встречных требований сторон, согласно которому обязательства ответчика по оплате исполнены передачей лома подрядчику (хотя на эстоппель суды не посчитали нужным ссылаться).
Но некоторые выводы суда остаются дискуссионны. Спорно, что именно подрядчик должен был знать об объёме работ. Напротив, металлоконструкции зачастую относятся к конструкциям, скрываемым под другими конструкциями, и до фактического сноса сооружения их объём не очевиден; скорее, об этом объёме мог знать только заказчик.
Учёт судами контекста договорных отношений и добросовестности сторон достаточно непредсказуем, так как некую степень недобросовестности и неосмотрительности может проявить как одна, так и другая сторона. И нельзя заранее предугадать, чью сторону примет суд.
В актуальной практике существуют приёмы толкования, в которых презюмируется возложение интерпретационных рисков на одну из сторон (например, contra proferentem). Достоинством таких приёмов является предсказуемость критериев возложения рисков.
При этом, следует сразу оговорить, что применение таких презумпций в толковании является крайней мерой, применяемой в случае невозможности успешно осуществить толкование иным образом.
Contra proferentem и contra creditorem как средства выхода из интерпретационного тупика
При невозможности для суда преодолеть неопределённость договора и найти его смысл возникает так называемый «интерпретационный тупик», для выхода из которого и рекомендуется приём contra proferentem [38]. Contra proferentem законом не предусмотрен и применяется после того, как инструментарий части 2 статьи 431 ГК РФ не приведёт к результату — при «невозможности установить действительную общую волю сторон иным образом»: пункт 45 Постановления № 49.
Употреблённые Пленумом Верховного Суда слова об установлении общей воли «иным образом» указывают на то, что contra proferentem рассматривается как последнее средство именно поиска общей воли. Представляется, что такой подход не совсем верен и судебной практикой фактически корректируется.
Например, профессиональный участник рынка, предлагая потребителю проект договора, фактически навязывает последнему свою волю, и общей единой воли у сторон нет.
Представляется, что приём contra proferentem если и можно назвать толкованием, то с большой долей условности: применение этого приёма приводит не к нахождению подлинного смысла договора, а к конструированию его предполагаемого значения. Contra proferentem выступает не как средство поиска смысла договора, а как средство возложения негативных последствий неопределённости договора на одну из сторон. Это скорее чисто юридический инструмент распределения интерпретационных рисков.
Существо contra proferentem состоит в том, что этот приём указывает логику распределения рисков заранее, и proferentem заранее знает, что в его интересах создание ясного и недвусмысленного проекта договора.
Применение приёма contra proferentem видится справедливым, так как возлагает риски неразрешимой неопределённости договора на сторону, которая созданием двусмысленного или пробельного проекта договора создала для себя возможности лавирования в таких условиях. Верно и то, что именно эта сторона сэкономила на трансакционных издержках при создании проекта договора [39] и её вина в пороках договора выше. Применением contra proferentem автор проекта договора стимулируется к созданию более ясного проекта.
Например, участником корпоративного договора подан иск о привлечении остальных участников к ответственности. Из условия о неустойке не следует, нужны ли два обстоятельства для привлечения к ответственности одновременно или достаточно одного из них. Суды установили, что автором был истец. Суд кассационной инстанции указав, что contra proferentem «стимулирует сторону, которая разрабатывает проект договора, выражаться яснее», поддержал отказ в иске proferentem’у (сторона, предложившая редакцию спорного договора) [32].
Обстоятельства применения contra proferentem могут быть двух видов. При первом установлено авторство проекта, как в примере выше. При втором достоверно неизвестно, кто разработал проект договора, и авторство вменяется профессионалу, бремя опровержения авторства лежит на нём.
Презумпция авторства часто применяется судами, возлагающими риски неразрешимой неопределённости договора на профессионала в требующей специальных познаний сфере (банк, лизингодатель, страховщик).
Эта презумпция имеет потенциал для развития и дополнения. Указано, например, что при заключении договора по результатам конкурсной процедуры proferentem’ом, как правило, выступает организатор торгов [40].
Так, возражая против удовлетворения кассационной жалобы, ответчик, являющийся арендатором, отстаивал позицию, что арендодатель-истец (он же кассатор) не доказал, что был лишён возможности участвовать в переговорах об изменении условий договора аренды, возможности подавать свои предложения; не доказал и намерения внести изменения в договор.
Соглашаясь с озвученной точкой зрения и отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, суд отказал в применении contra proferentem.
Суд кассационной инстанции [41] сформулировал позицию о том, что профессиональные участники не вправе извлекать преимущество из двусмысленности предложенных им условий в ущерб слабой стороне ; они должны стремиться к тому, чтобы несправедливые договорные условия изначально не включались в разработанные ими проекты договоров, в том числе стандартные формы ; не выполнив эту обязанность, они несут риск того, что такого рода условия не будут применяться судом.
Здесь следует выделить ключевые идеи:
Во-первых, contra proferentem применяется против сильной стороны договорных отношений в пользу слабой. Если же стороны равны по силе и возможностям, contra proferentem может быть не применён. Желающая его применения сторона несёт риски того, что не возразила против предложенного ей проекта договора, как мы наблюдали в вышеприведённом примере.
Во-вторых, подчёркнуто применение contra proferentem к договорам, составленных в стандартных формах. Для равных по силе сторон это может означать, что, если условия договора согласовываются индивидуально, а не в стандартных формах, contra proferentem может быть не применён.
При таких обстоятельствах слабой стороне приходится доказывать, что она действительно являлась слабой. В противном случае суды вправе «распылить» контроль за формулированием спорного условия между обеими сторонами и разрешить спор без приёма contra proferentem.
В-третьих, указано, что contra proferentem является именно средством распределения рисков. Причём возложение на proferentem’а риска выражается в неприменении спорного условия. О риске неприменения предложенного proferentem’ом условия говорит и Верховный Суд [42].
Представляется, что позиция Верховного Суда дополнительно подтверждает, что contra proferentem — это не средство поиска общей воли (не существующей), а юридико-технический инструмент распределения рисков между контрагентами.
Contra proferentem — далеко не единственный в своём роде приём. Его логике подчиняются и другие известные доктрине и практике приёмы, например, толкование против кредитора в пользу должника (contra creditorem).
Так, в силу статьи 1190 ГК Франции, в случае сомнения возмездный договор толкуется в пользу должника. По аналогии с contra proferentem можно назвать этот приём contra creditorem.
Российскими судами толкование в пользу должника применяется в ограниченном варианте — в пользу ограничения договорной ответственности.
Так, при толковании договора подряда Верховный Суд обратил внимание на условие о неустойке [43]: штраф за каждый факт неисполнения субподрядчиком обязательств, не имеющих стоимостного выражения. Субподрядчик не сдал исполнительную документацию. Подрядчик разделил этот факт на 193 нарушения за несдачу отдельных документов.
Верховный Суд указал: условие о юридической ответственности должно «определённо указывать на признаки состава правонарушения и не допускать двоякого толкования». Верховный Суд соcлался и на приём contra proferentem, предположив, что автором условия о неустойке был кредитор: «должно толковаться в пользу лица, привлекаемого к ответственности, в том числе потому, что противоположная сторона, как правило , является профессионалом … и подготавливает проект договора». В результате в удовлетворении требования о взыскании 193 штрафов отказано.
Слово «как правило» указывает на то, что развёрнутой аргументации в пользу contra creditorem в российском праве не сложилось. Приходится прибегать к проверенному приёму contra proferentem.
Как исключение может рассматриваться дело, где Верховный Суд не сослался на contra proferentem (хотя договор заключён с использованием конкурсной процедуры по правилам Федерального закона № 223, и для contra proferentem были основания).
Заказчик требовал с подрядчика штраф за нарушение последним обязанности по соблюдению конфиденциальности информации — привлечение к проектированию третьего лица и передачу ему проектной документации.
Суды трёх инстанций удовлетворили иск, а Верховный Суд в иске отказал, сославшись на неясность условий договора. По мнению Верховного Суда, условие о привлечении к ответственности «должно быть чётко выражено с указанием размера и вида штрафных санкций, порядка их определения, оснований для применения [44]».
В другом деле отклонён довод заказчика о том, что дополнительным соглашением сторонами продлён срок действия контракта, а не срок выполнения работ. Признано, что продление срока выполнения работ сторонами согласовано, следовательно, подрядчик не нарушил сроков и не мог быть привлечён к ответственности [45]. Указано, что договор должен определённо указывать на признаки состава правонарушения и не допускать двоякого толкования.
То есть, приём contra creditorem обладает собственной ценностью как средство возложения риска на кредитора, не позаботившегося о ясности и полноте условия об ответственности независимо от авторства договора.
Ведь именно кредитор заинтересован во внесении в договор условия о мерах ответственности. И именно кредитор может извлекать необоснованную выгоду из двусмысленных условий (например, требовать взыскания 193 штрафов вместо одного).
С учётом изложенного можно предположить, что contra creditorem может выйти «из тени» приёма contra proferentem, хотя на сегодня достаточной самостоятельности этого приёма толкования не наблюдается.
Заключение
Толкование договора в российском праве не следует рассматривать как сугубо познавательную деятельность. Иногда предмет поиска, такой как общая воля сторон, не существует и, соответственно, найден быть не может.
Поэтому более корректно рассматривать толкование как средство распределения между сторонами интерпретационных рисков, заключающихся в непреодолимой неясности текста договора.
Стоит признать, что, говоря в части 2 статьи 431 ГК РФ об «общей воле», законодатель выдаёт желаемое за действительное. Общей воли сторон, спорящих о смысле договора, может и не сложиться. Результат толкования заведомо противоречит воле проигравшей стороны, так как фактически у каждой из сторон воля разная.
Как показывает анализ актуальной судебной практики, суды фактически не ищут общую волю сторон. При неразрешимой неопределённости договора суды ограничиваются защитой воли только одной стороны договора. Проводя анализ текста договора, поведения сторон, обстоятельств их взаимоотношений, суды разработали приёмы распределения между сторонами интерпретационных рисков. И поступают оптимально в создающемся положении.
В наибольшей степени отсутствие общей воли проявляется на стадии толкования, когда средства части 2 статьи 431 ГК РФ оказываются недостаточны (например, contra proferentem, contra creditorem). Применение таких приёмов толкования заранее ориентирует суд на выбор стороны, на которую ложатся риски неразрешимой неопределённости договора.
Противоречивое и непоследовательное поведение стороны также может привести к тому, что суд не примет её версию понимания договора. Попытка непоследовательной стороны ввести в заблуждение контрагента и извлечь тем самым для себя пользу из неясности договора позволяет суду применить против этой стороны принцип эстоппель и руководствоваться волей более добросовестного контрагента.
Поэтому толкование договора — процесс не только установления истинного смысла договора, но и — юридический инструмент распределения рисков неопределённости спорных условий договора между сторонами.
Риски несёт тот из контрагентов, который во вред противоположной стороне мог извлечь из неясности условия неоправданную пользу. Такой подход к толкованию видится логичным и справедливым.
Литература:
- Договорное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 420–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / А. К. Байрамкулов, О. А. Беляева [и др.]; отв. ред. А. Г. Карапетов. // М.: М-Логос, 2020. 1425 с.
- Mitchell C. Interpretation of Contracts. — Routledge-Cavendish, 2007. 160 с.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301, «Российская газета», N 238–239, 08.12.1994.
- Александров Денис Владимирович. Интерпретационный риск в юридической деятельности в правореализующей практике: дис. канд. юр. наук: 12.00.01. Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, Владимир, 2007. 160 с.
- Kostritsky J. P. Interpretive Risk and Contract Interpretation: A Suggested Approach for Maximizing Value // Case Western Reserve University. 2010, December. 93 с.
- Лубягина Д. В. Риск в гражданском праве: монография. —М.: Проспект, 2016. 64 с.
- Code civil des Français. Journal officiel de la République française, URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/
- Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах» // «Вестник ВАС РФ», N 5, май, 2014.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 2, февраль, 2019.
- Vogenauer S. Interpretation of Contracts: Concluding Comparative Observations — Oxford University Press, 2007, May. С.123–150.
- Hutchison A. Relational theory, context and commercial common sense: views on contract interpretation and adjudication // The South African Law Journal, 2017, 134. С. 296–326.
- Жмаева Е. С. Некоторые проблемы судебной практики при толковании условий предварительного договора // «Российский судья», 2019, N 6. C. 22–25.
- Байрамкулов А. К. Особенности толкования договора в российском гражданском праве: дис. канд. юр. наук: 12.00.03. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Москва, 2015. 242 с.
- Определение ВС РФ № 305-ЭС19–27017 от 17.06.2020 по делу № А40–71817/2016 // КАД «Мой Арбитр».
- Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.10.2025 по делу № А45–32792/2024 // КАД «Мой Арбитр».
- Щетинкина М. Ю. Толкование судом гражданско-правовых договоров как основа реализации принципа свободы договора: некоторые проблемные аспекты // Юрист, 2009, N 2. C. 23–27.
- Костикова А. В. Толкование юридических текстов и основные подходы к толкованию // Арбитражные споры, 2006, № 2. // СПС Консультант-Плюс.
- Савиньи Ф. К. Обязательственное право. — СПб. Юридический центр Пресс», 2004. 576 с.
- Дювернуа Н. Л. Пособие к лекциям по гражданскому праву. Выпуск 2. Обязательства. Часть общая (Отдел I) (в связи с замечаниями на Проект книги V Гражданского уложения). 149 с.
- Гамбаров Ю. С. Курсъ гражданского права. Том I. Часть общая. — С-Пб. Типография М. М. Стасюлевича. 1911. 780 с.
- Новицкий И. Б., Лунц, Л. А. Общее учение об обязательстве. — М.: Госюриздат, 1950. 416 с.
- Степанюк Н. В. Принцип добросовестности при толковании гражданско-правового договора. // Законы России: опыт, анализ, практика, N 9, сентябрь 2010 // СПС «Гарант».
- Степанюк Н. В. Толкование гражданско-правового договора. Проблемы теории и практики: монография. — М.: ИНФРА-М, 2022. 136 с.
- Гражданское право: учебник. В 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд., переработ. и дополн. Т. 3: Общие положения об обязательствах и договорах. Договорные обязательства по передаче вещей в собственность или в пользование — М.: Статут, 2011. 479 с.
- Pothier R-J. Traité des obligations. T I. — Paris, 1821. 473 с.
- Foriers P. A. La volonté unilatérale dans le contrat — Éditions du jeune barreau de Bruxelles, 2008. 499 с.
- Renard C., Vieujean E., Hannequart Y. Théorie générale des obligations. La notion d'obligation la formation des contrats et la capacité des parties contractantes. Tome IV. — Bruxelles, 1957. 806 с.
- Определение Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС24–24318 от 02.06.2025 по делу № А40–206328/2023 // КАД «Мой Арбитр».
- Синайский В. И. Русское гражданское право. / В. И. Синайский. — Киев. 442 с.
- Постановление Президиума ВАС РФ № 16378/08 от 09.04.2009 по делу № А40–13945/2006 // «КАД Арбитр».
- UNIDROIT Principles of international commercial contracts 2016. International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). — Rome, 2016. 460 с.
- Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 10.01 2022 по делу № А51–11121/2020 // «КАД Арбитр».
- Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.01.2022 по делу № А60–16092/2021 // «КАД Арбитр».
- Роор К. А. Виды эстоппелей в российском праве и праве стран англосаксонской правовой семьи // Журнал «Законодательство», 2018, N 1. // СПС «Гарант».
- Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2025 по делу № А41–107978/2024 // «КАД Арбитр».
- Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.10.2025 по делу № А41–107978/2024 // «КАД Арбитр».
- Mehanna M. La prise en compte de l’intérêt du cocontractant. Thèse de doctorat en droit soutenue le 13 décembre 2014. — Université Panthéon-Assas école doctorale de droit privé. 540 с.
- Бевзенко Р. С. Прекращение обязательства путем передачи отступного, момент возникновения права на недвижимость и толкование contra proferentem: Комментарий к постановлению Президиума ВАС РФ № 2504/14 от 10.06.14 // Закон.ру: Интернет-ресурс URL: https://zakon.ru/blog/2014/8/11/prekrashhenie_obyazatelstva_putem_peredachi_otstupnogomoment_vozniknoveniya_prava_na_nedvizhimost_i_
- Карапетов А. Г. Contra Proferentem как метод толкования договора // Вестник ВАС РФ, 2013, № 7. С. 6–35.
- Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.09.2025 по делу № А75–14070/2024 // «КАД Арбитр».
- Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 31.10.2025 по делу № А45–42693/2024 // «КАД Арбитр».
- Определение Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС23–8962 от 18.10.2023 по делу № А40–33927/2022 // «КАД Арбитр».
- Определение Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС21–22419 от 24.02.2022 по делу № А40–94872/2020 // «КАД Арбитр».
- Определение Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС19–8124 от 29.08.2019 по делу № А40–199887/2018 // «КАД Арбитр».
- Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.05.2020 по делу N А40–25358/2019 // «КАД Арбитр».