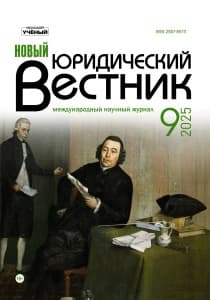Введение
Институт сделок с заинтересованностью занимает важное место в правовом регулировании корпоративных отношений. С одной стороны, он направлен на обеспечение прозрачности хозяйственной деятельности, защиту интересов участников (акционеров) и контрагентов хозяйственных обществ, а также на формирование стандартов добросовестного корпоративного управления. С другой стороны, на практике именно в данной сфере часто возникают нарушения, которые могут привести к злоупотреблению корпоративной властью, выводу активов, созданию фиктивной задолженности и причинению существенного имущественного вреда бизнесу.
Проблема судебной практики, связанной со спорами о признании недействительными сделок с заинтересованностью, заключается не только в сложности доказывания фактической заинтересованности, но и в ограниченности формального законодательного подхода, который не всегда позволяет эффективно выявлять и пресекать недобросовестное поведение в корпоративной среде.
Сделка с заинтересованностью представляет собой правовой механизм, направленный на защиту интересов юридического лица от возможного конфликта интересов между обществом и лицами, обладающими возможностью оказывать влияние на его деятельность. Такая сделка заключается с участием лиц, которые в силу занимаемой должности, родственных связей либо контроля над организацией могут извлекать личную выгоду в ущерб интересам общества.
Законодатель закрепляет закрытый перечень заинтересованных лиц, чья вовлеченность оказывает влияние на допустимость и правомерность совершения сделки. Как отмечает И. С. Шиткина, «в законодательстве содержится закрытый перечень лиц, чья заинтересованность влияет на совершение сделок» [1].
В соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [2] и ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [3], законодатель выделяет три основные категории заинтересованных лиц:
- Основные должностные лица общества: члены совета директоров (наблюдательного совета); единоличный исполнительный орган (например, генеральный директор); члены коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции); контролирующие общество лица; лица, имеющие право давать обществу обязательные указания (в том числе управляющие компании).
- Близкие родственники указанных лиц, включая: супругов; родителей; детей; полнородных и неполнородных братьев и сестёр; усыновителей и усыновлённых.
- Подконтрольные организации и лица, а именно: юридические лица, контролируемые вышеуказанными лицами; организации, в которых указанные лица имеют возможность определять решения (например, через владение контрольным пакетом акций, участие в органах управления и т. д.).
Необходимо отметить, что лицо из указанного круга признаётся заинтересованным в совершении обществом сделки не автоматически, а при наличии одного или нескольких установленных законом критериев.
Так, согласно указанным ранее законам, лицо, равно как его близкие родственники или подконтрольные организации, признаются заинтересованными, если:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
Несмотря на нормативную определённость круга заинтересованных лиц и критериев их признания таковыми, в правоприменительной практике одной из наиболее сложных задач остаётся — установление фактической заинтересованности в сделке.
Судебная практика подтверждает необходимость отхода от узкоформального подхода к оценке заинтересованности в сделке и перехода к анализу её реального экономического содержания. В частности, п. 3 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел по корпоративным спорам, связанным с применением ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.07.2025) [4] демонстрирует, что при определении заинтересованности лица в сделке суды могут выходить за пределы формальных критериев, установленных законодательством, и учитывать фактические обстоятельства, свидетельствующие о получении выгоды лицами, формально не признанными заинтересованными.
В рассматриваемом случае акционер предъявил иск к руководителю хозяйственного общества о взыскании убытков, вызванных выдачей займов организациям, аффилированным с последним. Денежные средства по договорам займа направлялись от общества дочерней компании, не ведущей реальной хозяйственной деятельности, а затем — в адрес иных юридических лиц, участниками которых являлись лица, находящиеся с руководителем общества в дальнем родстве.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что Закон об акционерных обществах устанавливает закрытый перечень лиц, вовлечение которых свидетельствует о наличии заинтересованности (супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры), а также порог контроля в 50 % голосов в органах управления. Согласно формальному подходу, указанные лица не подпадали под данные критерии, что, по мнению суда, исключало возможность признания конфликта интересов и привлечения руководителя к ответственности.
Однако суд апелляционной инстанции отменил это решение, подчеркнув, что при оценке действий руководителя как совершённых в условиях конфликта интересов, нельзя ограничиваться формальными критериями контроля. Суды обязаны учитывать фактические обстоятельства — наличие устойчивых экономических связей, передачу активов на заведомо невыгодных для общества условиях, отсутствие хозяйственной деятельности у получателя средств и конечную выгоду, извлечённую аффилированными лицами.
Таким образом, были установлены признаки фактической аффилированности руководителя с конечными выгодоприобретателями, несмотря на отсутствие формального контроля или родства в рамках перечня Закона № 208-ФЗ. Суд пришёл к выводу о наличии заинтересованности руководителя в совершении сделки и его недобросовестном поведении, приведшем к убыткам общества, что послужило основанием для возложения на него имущественной ответственности.
Рассматриваемое дело наглядно иллюстрирует ситуацию, когда лицо, не упомянутое прямо в качестве заинтересованного, тем не менее, фактически извлекает выгоду из сделки, а его связь с руководителем общества позволяет суду квалифицировать такие действия как совершённые в условиях конфликта интересов. Он подтверждает необходимость отхода от исключительно формального толкования заинтересованности в пользу оценки реального экономического содержания сделок и поведения сторон.
Подобный подход получил развитие в более позднем деле, рассмотренном Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации [5]. Спор возник в связи с предполагаемой заинтересованностью в сделке между аффилированными юридическими лицами при передаче имущества в аренду и последующей субаренде на менее выгодных условиях для общества. Несмотря на то, что суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали в иске, ссылаясь на отсутствие доказательств формальной заинтересованности, Верховный Суд отменил вынесенные решения. В своём определении он констатировал, что аффилированность лиц может быть доказана в отсутствие формально-юридических связей между ними (фактическая аффилированность).
В связи с изложенным, Верховный Суд отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение с указанием необходимости комплексной проверки аффилированности сторон сделки, оценки соответствия условий договоров рыночным стандартам, а также возложения на ответчиков бремени доказывания отсутствия ущерба обществу.
Заключение
Таким образом, на сегодняшний день, в корпоративном праве сохраняется проблема ограниченности формального подхода к определению заинтересованности в сделке. Одним из ключевых аспектов является отсутствие чётких критериев для выявления фактической аффилированности, что затрудняет правоприменение и создаёт риски для корпоративной стабильности. Суды зачастую сталкиваются с необходимостью выходить за рамки нормативно установленного перечня заинтересованных лиц, чтобы установить наличие конфликта интересов на основании совокупности обстоятельств. Это, в свою очередь, порождает правовую неопределённость и повышает вероятность субъективных решений.
Указанная проблема осложняет защиту прав как самих обществ, так и их участников, снижает прозрачность корпоративных процедур и затрудняет доказывание злоупотреблений со стороны контролирующих лиц. Для устранения этих правовых пробелов необходимо совершенствование законодательства, направленное на более точное определение признаков фактической заинтересованности, а также формирование единообразного подхода в судебной практике, учитывающего экономическую сущность сделок и реальные связи между их участниками.
Литература:
- Корпоративное право: учебный курс. В 2 т. Т. 2 / отв. ред. И. С. Шиткина. — М.: Статут, 2018. — 493 с.
- Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 05.10.2025). Ст. 45.
- Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 05.10.2025). Ст. 81.
- Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел по корпоративным спорам, связанным с применением статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.07.2025) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 05.10.2025).
- Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2024 № 307-ЭС23–29560 по делу № А56–33796/2022 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 05.10.2025).